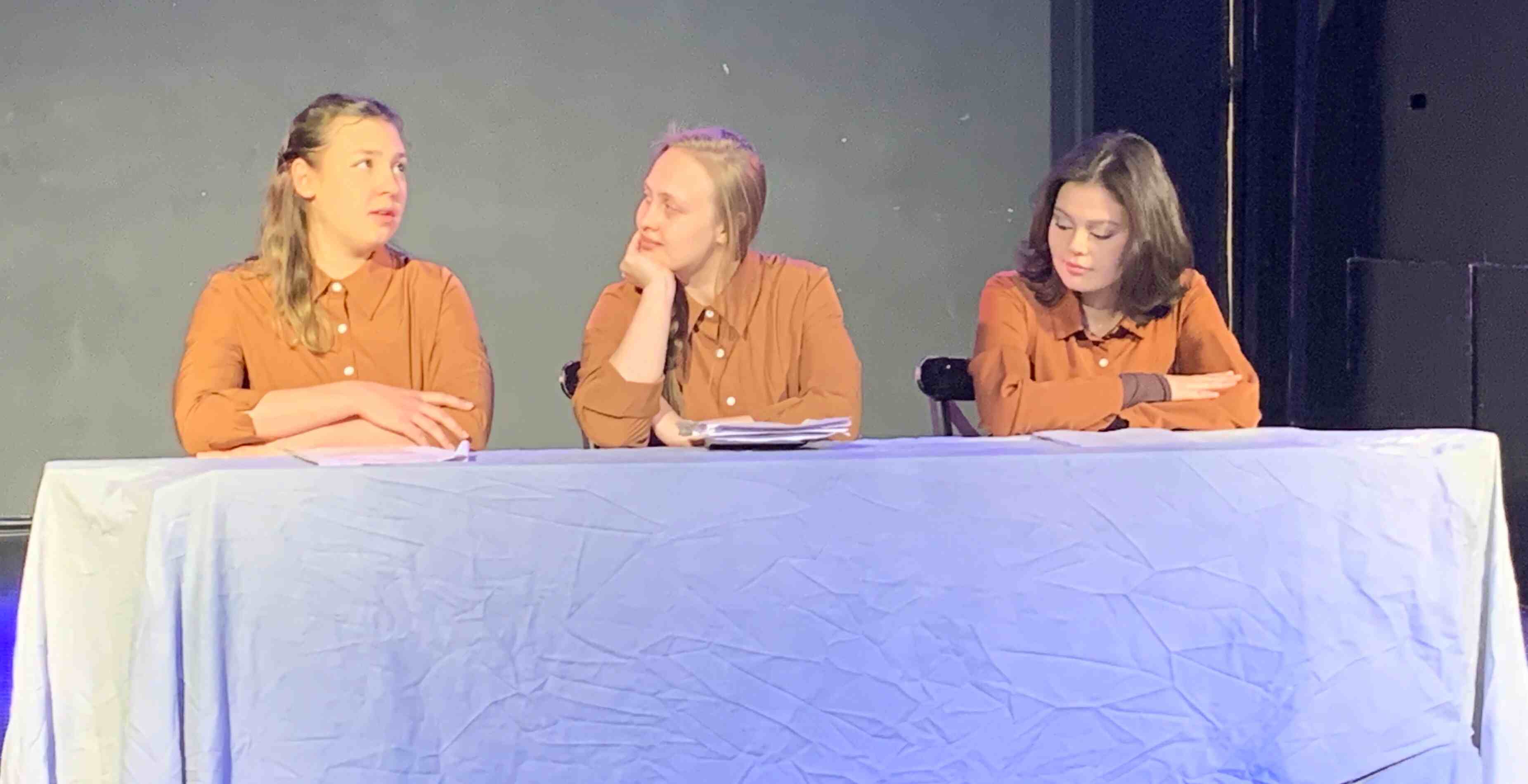Вторая половина 2025 года ознаменовалась самой настоящей эпидемии реконструкций-реставраций, которые иногда в самую пору назвать варварскими. На очереди в подобные реставрации — старейшая в городе пожарная часть.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Здесь была история. «Реставрация», о которой не просили
Красный рассвет: советский период истории купеческого дома
Алматинский ампир. Кварталы исчезающей истории
В историческом центре Алматы, на пересечении улиц Кунаева и Жамбыла, стоит здание, которое заслуживает внимания не как просто очередной объект капитального ремонта, а как иллюстрация того, что у городских чиновников есть серьезная проблема с пониманием слова «реставрация».
Речь идет о пожарной части №5, построенной в конце 1930-х. Несмотря на то, что у здания нет статуса памятника архитектуры, городские власти все же считают его историческим и настаивают на термине «реставрация» касаемо того процесса, что сейчас с ним происходит.
Здание, хоть и не абсолютный архитектурный шедевр, но все же входит в контекст советской архитектуры с выраженным материалом — ракушечником, элементами, присущими тому времени. Вообще, ракушечник — одна из ярчайших визитных карточек алматинской архитектуры. А утрата оригинальной структуры — фактическое стирание истории.
Ведь когда происходит замена облицовочного материала или изменение самого фасада, это уже не реставрация, а реконструкция с утратой подлинности и идентичности. При этом публичная коммуникация является минимальной: официальные лица говорят о сохранении, но проектные схемы демонстративно показывают снятие всех слоев.
Недавно мы писали о ситуации вокруг двух школ, одна из которых уже прошла подобную «реконструкцию» (гимназия №33), а другая проходит в настоящий момент. Утрачиваются декоративные элементы, фасад теряет пластику, материал заменяется на современные панели. Типичный пример, как под флагом «модернизации» происходит потеря исторического характера здания. В случае с 56-й гимназией подрядчиков в буквальном смысле слова «поймали за руку». Эксперты и общественники обратили внимание, что изначальный паспорт объекта не включал колонны и карниз с фактурой, но такие элементы есть на старом здании — и они мельчают либо исчезают.
Есть и другие , более удручающие примеры. Например, бывшее здание железнодорожной больницы.
Объект, расположенный на пересечении проспекта Абая и улицы Масанчи, некоторое время был бесхозным и постепенно разрушался: разбитые окна, граффити, облупившаяся штукатурка. Этот кейс показывает, что даже общественная кампания либо не срабатывает, либо дает эффект с огромным опозданием — в итоге здание приходит в катастрофическое состояние, и тогда уже «реставрация» становится практически новой стройкой. Или же некогда расположенный в нескольких кварталах ниже по улице Масанчи стадион «Медик». История схожая, но если бывшую железнодорожную больницу планируют хотя бы воссоздать, тот этот пример буквально воплощает то, как городской ландшафт безжалостно трансформируется: место стадиона, место памяти для многих поколений, утрачивается, уступая новой застройке, и этот факт прекрасно иллюстрирует избыток коммерческой логики над сохранением культурно-архитектурной ткани. Почти десять лет входная группа в стадион стояла заброшенной, пока не пришла в негодность, после чего была снесена.
Почему же часто не удается спасти городскую застройку от варварства?
Многие активисты выделяют несколько проблемных зон. На бумаге у нас есть правовая база: законы и правила охраны памятников, паспорта объектов, требования к экспертизе и разрешениям. Однако проблема в реализации: первое — паспорта объектов и проектные эскизы могут меняться без своевременного публичного обсуждения.
Во-вторых, экспертизы часто даются формально и не защищают аутентичные материалы и технологию.
В-третьих, контроль со стороны профильных органов оказывается слабым в части соблюдения материалов и методик реставрации.
Отмечают также, что коммерческие интересы и дефицит городских функций (площадка под строительство) создают сильный стимул к переоценке сохранения в пользу «перепрофилирования» участка. Иными словами — механизм защиты есть, но он хронически «дыряв»: правила работают, когда нет давления со стороны частного капитала и когда СМИ и общественность активно бдят.
«По сути дела, кроме крика общественников, нет никакого другого средства против сносов исторических строений или их так называемых реконструкций, — уверена гид, общественный деятель и исследовательница городской истории Евгения Морозова. — Думаю, что успокаивающий комментарий от акимата последовал как раз после громкого общественного резонанса. Может быть и от радикальной перестройки отказались в пользу реставрации после поднятого шума. Ну и конечно, шансы всегда больше, если здание обладает хоть каким-то охранным статусом. Если его нет, дело зачастую безнадежно. Потому как, согласно закону, ни снос, ни перестройка этих «беззащитных» зданий не запрещаются».
Варварские реставрации намного легче было бы отслеживать и предупреждать, если бы проектную документацию и паспорта объектов публиковали бы до начала работ, если бы всерьез, а не ради галочки обсуждались альтернативы. Ведь законом никто не обязывает анонсировать подробности реконструкций-реставраций в СМИ. По сути, общество всегда ставится перед фактом. Инструмент общественного контроля хромает и фактически не работает. По сути — собственники и подрядчики едва ли ни всевластны, общественность — если только успеет, условно говоря, «встрять».
Увы, приходится признать, что ситуация не меняется. Или меняется очень медленно и недостаточно. Архитектурный общественный контроль — дело, к сожалению, немногочисленной группы энтузиастов. А инертность населения и общее снижение уровня культуры и образования дает почву для того, чтоб эта ситуация не менялась еще долго. А если она и поменяется, не потеряем ли мы к тому времени архитектурную ткань города окончательно?
Фото из открытых источников