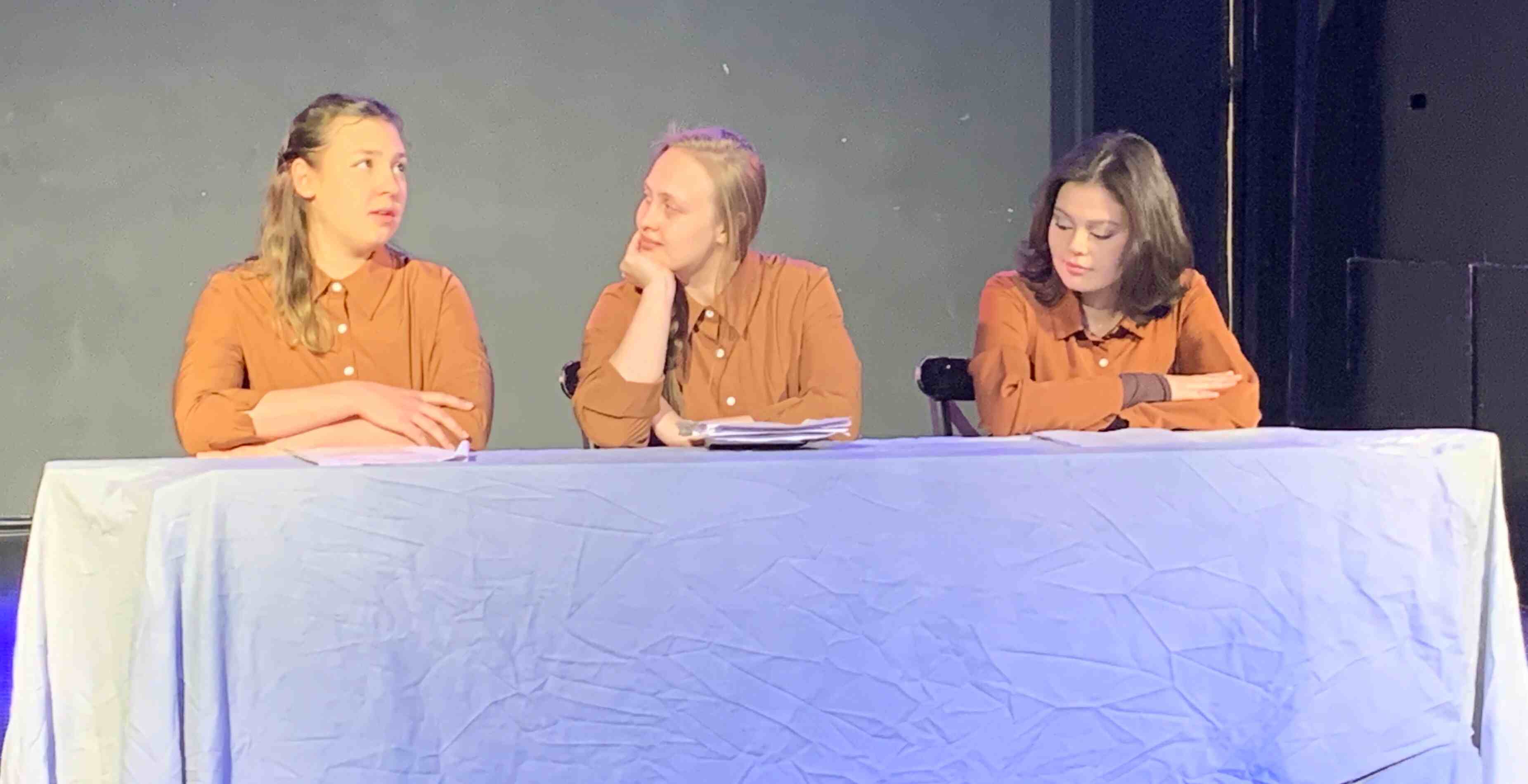В возрожденный президентом Касым-Жомартом Токаевым в качестве национального праздника День Республики мы отметили дату, с которой началось движение к независимости Казахстана. 25 октября 1990 года Верховный Совет Казахстана принял Декларацию о государственном суверенитете. При этом важно понимать: документ принимали не в спокойное время, а на фоне кризиса и распада огромной страны, когда старые ориентиры рушились, а новые только намечались. Чтобы понять цену этого шага, стоит вернуться в атмосферу 1990 года — тревожного и судьбоносного для будущего нашей страны.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Суверенитет как возвращение. Этап эволюции Казахстана
Погружение в историю. За кулисами референдума-1995
«Украинский период» в Казахстане: восхождение Брежнева
1990 год был во многом уникальным. Рубеж двух десятилетий — он словно заложил программу на последнюю декаду XX века, когда каждый год начинался в одном состоянии, а заканчивался совсем в другом. В 1990-м горбачевская перестройка шла уже почти пять лет, ощущение серьезности перемен было у многих, но даже в первые новогодние дни 1990-го было трудно представить, как население СССР встретит его конец. Что компартия больше не будет правящей, что к концу года все союзные республики провозгласят суверенитеты (кто-то в рамках Союза, а кто-то и провозгласит выход из СССР). И это не говоря уже о чудовищном продовольственном и потребительском кризисе.
Впрочем, обо всем по порядку. Буквально за 2-3 года относительной свободы слова в советских СМИ, когда неожиданно стало можно говорить правду о ситуации в стране, в советском обществе сложился, пожалуй, единодушный консенсус, что виновата в этом упадке Коммунистическая партия Советского Союза. Что, в общем, логично. Ибо эта организация на протяжении 73 лет обладала всей полнотой власти в стране. Соответственно, с нее и спрос. На рубеже 1989-1990 года вопрос о том, чтобы лишить Компартию руководящей и направляющей роли, закрепленной за ней 6-й статьей Конституции СССР, обсуждался весьма живо. Вместе с тем, далеко не все верили в то, что это возможно. Тем не менее, в марте 1990 года случились два судьбоносных события — на третьем Съезде народных депутатов СССР учрежден пост президента и отменена шестая статья Конституции. Многие восприняли сигнал вполне очевидно — советской власти скоро конец. Партию покидают тысячами. На XXVIII съезде с трибуны заявляет о выходе Борис Ельцин — еще не президент РСФСР, но уже глава Верховного Совета РСФСР. Следом — председатели московского и ленинградского горсоветов Гавриил Попов и Анатолий Собчак… Одни делегаты требуют «обновления» — в духе европейских социал-демократий. Другие защищают старую КПСС, словно святыню. Горбачев говорит о «консолидации», но объединяться уже не с кем — и не вокруг чего. Союз трещит, как лед весной: Прибалтика, Грузия, Украина, Карабах — все это лишь первые осколки. КПСС превращается в рыхлое объединение компартий республик. Империя осыпается: распущены СЭВ и Варшавский договор — за год исчез целый мир. Начавшись с призыва «Больше социализма!», перестройка к 1990-му дошла до негласного лозунга «Меньше социализма».
Меняется и быт. И без того убогий советский потребительский рынок терпит форменное крушение. Впервые за всю историю стране не хватает сигарет: производство табачного листа в СССР сократилось вдвое, 5 млрд сигарет недопоставила Болгария, кубинцы остались без советской папиросной бумаги, а из 24 отечественных табачных фабрик на ремонт одновременно встали 16. На черном рынке пачка «Явы» стоит вместо 40 копеек от 3 до 5 рублей. Бабки на улицах продают подобранные окурки: с подносов — по 5-10 копеек за штуку и в банках — 2-3 рубля за поллитровую. Случаются табачные бунты: толпы курильщиков перекрывают улицы, переворачивают начальственные машины, громят табачные киоски.
Не хватает и прежде доступного индийского чая, грузинский из-за политических волнений в Грузии поставляется с перебоями — в страну массово завозится турецкий. Желтые и лиловые упаковки «чайкур» великоваты — будто сахарный песок. Сам чай — не привычные сухие ворсинки, а мелкая крупа, будто чайной трухи насыпали. Заваришь — аромата нет, вкус слабый, и сколько чая в чайник ни клади, выходит некрепко. Эксперты оценивают «чайкур» как второй сорт грузинского. Турки обижаются и даже размещают в газетах и на телевидении рекламу пособия: как правильно с их мелкомолотым обращаться. Даже с такой агитпроп-кампанией продукт не приживается.
Зато продолжает меняться уличная мода. На вновь и вновь открывающихся рынках и толкучках на ура расходятся брюки-бананы, джинсы-варенки, а также леггинсы и лосины. Мода тех лет по сей день — притча во языцех. Начес, варенка и железобетонная химия на голове по сей день определяют даже несколько карикатурный образ рубежа 1980-1990-х. Идеалом же красоты для самых маленьких становится крайне дефицитная и от того неимоверно желанная среди девчонок кукла Барби. А мечта советского подростка — приехать в Москву и сходить, пусть и отстояв многочасовую очередь, в первый открывшийся в СССР «Макдональдс».
Из страны массово выезжает население. Невзгоды подталкивают людей к бегству, но теперь отъезд — уже не разрыв с родиной, а новая форма существования. Можно жить «на две страны», возвращаться в гости, сохранять дом здесь и приобрести жилье там. На поверхность всплывает память о корнях — о народах, что жили внутри СССР, но никогда не имели своей государственности и даже выезда «по национальному признаку». Греция открывает двери для своих — этнических греков, которых в Союзе было около 350 тысяч. Германия принимает немцев, — их более двух миллионов, хотя автономию немцев Поволжья, упраздненную еще в 1941-м, так и не восстановили. Советские немцы — особая народность, полурусские, полузабытые, уезжают теперь из Сибири, Казахстана, Кыргызстана. Аббревиатура «ПМЖ» (постоянное место жительства) становится лингвистическим символом эпохи — знаком конца одной и начала другой жизни.
Еврейская эмиграция в Израиль, некогда единственная официально дозволенная, в 1990-м достигает рекорда — двести тысяч человек за год. Начинается то, что раньше казалось невозможным, — исход советских евреев в Германию. 18 марта парламент ГДР признает вину обоих немецких государств за Холокост и обещает компенсации.
К октябрю 1990 года другой немаловажной проблемой становится кроме политического, еще и экономический сепаратизм. Когда желая спастись от товарного дефицита, власти республик, городов, районов не выпускают сельхозпродукцию за пределы своего региона и продают ее по предъявлении прописки. Сегодня это явление в массе своей позабыто, однако жители спорных территорий, коих после 1991 года прибавилось, помнят его больше, чем жители стабильных стран.
Из свидетельств наступления нового времени появляется такой прежде немыслимый феномен, как частные СМИ. Казахстан одним из первых обзавелся коммерческим телеканалом (ныне КТК), а в России начали вещать частные радиостанции, также со временем ставшие отдельными брендами на всем постсоветском пространстве.
По сей день многими медиа-спецалистами признается, что тон современному радиовещанию задала советско-французская радиостанция «Европа+». Она приносит в советский эфир не просто музыку, а новую манеру звучания — живую, свободную, почти уличную. Теперь радио — это не монотонный голос диктора, а непринужденный разговор: переброска шутками между песнями, звонки слушателей в прямой эфир, легкие конкурсы без сценария. Все звучит «вживую», будто где-то рядом, в соседней комнате. Появляется новое слово — «диджей». Их никто не видел, но им верят, будто знакомы давно: эти невидимые голоса становятся первыми звездами новой радиоэпохи.
Мир менялся — и не только у нас под носом, но и в самых отдаленных уголках планеты. Так, Нельсон Мандела после 27 лет заключения вышел на свободу 11 февраля 1990 года, дав сигнал, что невозможно вечное господство одной расы, одной идеологии, что даже самая строгая тюрьма не может удержать дух свободы.
Аугусто Пиночет, правивший режимом в Чили, потерпел поражение на референдуме «Нет». 5 октября 1988 года стало прологом конца его авторитарной эры — и с начала 1990-х система диктатуры начала уступать место новой политической реальности.
С Даниэлем Ортегой и его Фронтом сандинистского освобождения Никарагуа произошло неожиданное: на выборах 25 февраля 1990 года их правление было прекращено — кандидат от антисандинистской коалиции Виолета Чаморро победила его, и наследие революционной модели оказалось под вопросом.
Рождение нового никогда не бывает красивым процессом. Оно не похоже на умилительные картинки из «мамских» блогов — где все чисто, приглажено и сопровождается приятным музыкальным фоном. Настоящее рождение — это боль, кровь, грязь, лихорадка, и крики тех, кто стоит рядом и не понимает, выживет ли ребенок. Так и в 1990-м: рушились стены, ломались судьбы, старый мир сходил с ума, не веря, что кончился навсегда. Но только пройдя через это, можно было увидеть новый рассвет.
Тогда никто не говорил о «перезагрузке» или «переходном периоде» — просто каждый день становился другим, непохожим на вчерашний. Все, что считалось привычным и неизменным, вдруг оказалось хрупким, и все, что казалось невозможным, — стало реальностью. Да, это было время потерь, обмана и боли. Но из него вышло поколение, научившееся жить без опоры на мифы, без страха перед переменами.
И сегодня, спустя тридцать пять лет, мы можем смотреть на то время без ненависти или восторга — но с уважением к тем, кто прошел через этот хаос. Ведь именно из той боли родился независимый Казахстан и вся наша новая жизнь, окружающая нас действительность — несовершенная, шумная, но настоящая.
Фото из открытых источников