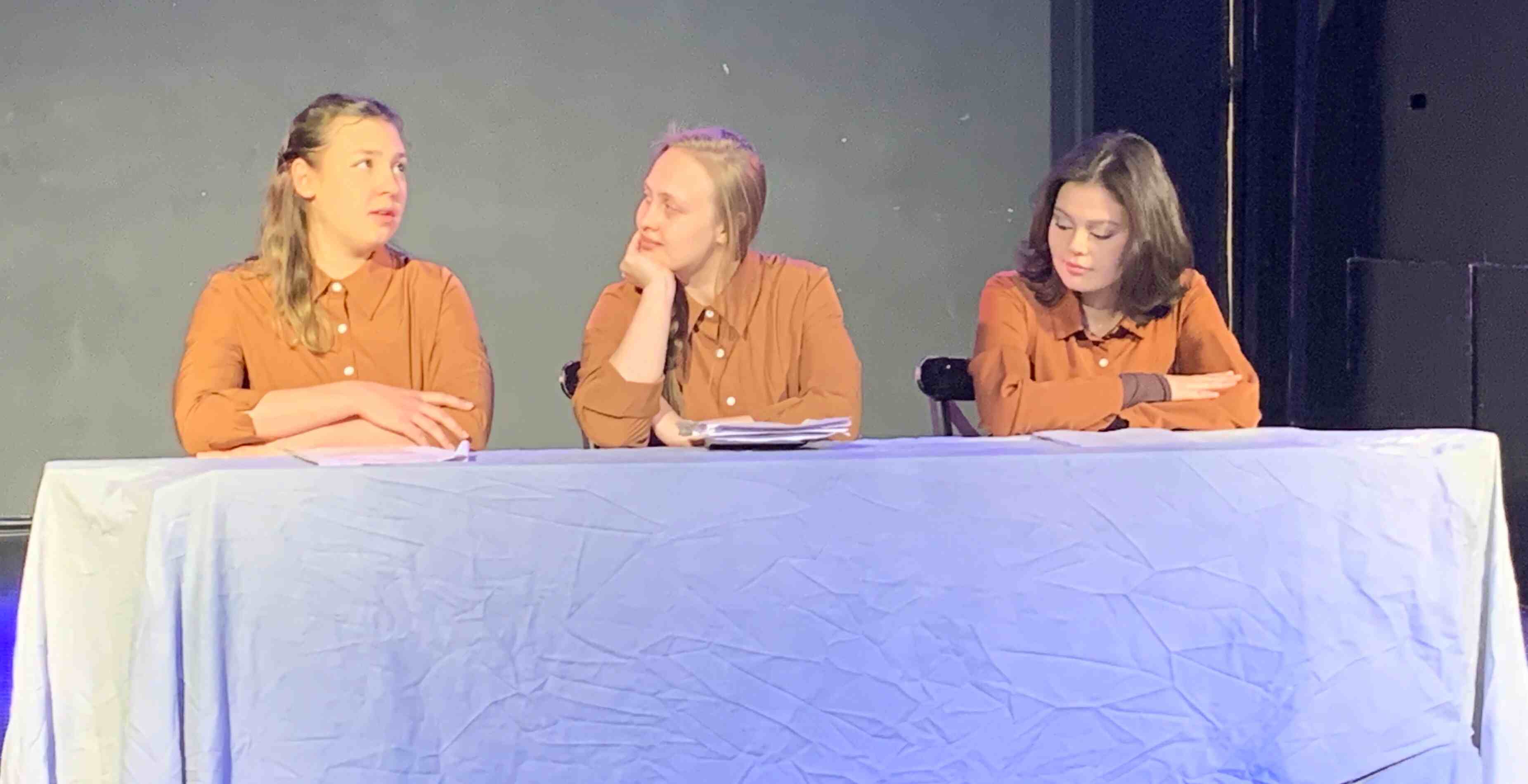В ноябре традиционно отмечается Международный день КВН. И мы порой мало задумываемся о том, насколько крупным феноменом стала эта игра на рубеже XX–XXI веков стала не только для России, Украины, но и для Казахстана.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Пиар на грани фола. Что произошло с сериалом Offside?
Рынок решает. Прокатчики ответили киношникам
Не смешно: казахстанские кинокритики сделали выбор
Поколения кавээнщиков разных лет невероятно большое место заняли в отечественной культуре и в свое время сделали решительный вклад для развития целых направлений и в отечественном кино, и в отечественном телевидении.
Если говорить об истории сугубо российского отрезка КВН, то тут без экскурсов советской прошлое не обойтись. Казахстан же в этом плане своей кавээновской историей отличается от северного соседа. Отечественный КВН как феномен состоялся уже в первые годы независимости. Едва только на него обратило внимание местное телевидение. Путь к зрителю отечественный КВН начал через эфир на телеканале КТК. Игры начала 1990-х годов сегодня наверняка показались бы наивными, но именно они проложили путь к славе и вполне успешным карьерам первого поколения кавээнщиков Казахстана. Сегодня даже не все помнят, что из КВН вышли ставшие сегодня молодыми ветеранами отечественного ТВ и юмора — Роман Альманский, Мурат Оспанов, Еркен Губашев. А вел игры ныне позабытый журналист-фельетонист и сатирик Альбек Тастайбеков (телезрители 1990-х наверняка вспомнят его сатирическое телешоу «Неделька», на сегодняшнем ТВ совершенно непредставимом).
— Рубеж 80-х и 90-х — это расцвет политической сатиры. Мы в КВН очень много шутили над президентом, над властью и над бюрократией. Мы верили, что строим новое общество. КВН был острым и интересным, и огромное количество анекдотов выходило именно оттуда, — вспоминал Еркен Губашев, актер, сценарист, один из ветеранов казахстанского КВН, капитан сборной Уральска.
К слову, один такой анекдот родился как раз на одной из кавээновских разминок:
— Почему депутаты парламента Казахстана толстые такие, с двойными подбородками, некрасивые? А вот депутаты европейских парламентов стройные и красивые. В чем дело?
— Конституция такая!
К слову, именно то поколение первым решило конвертировать известность с подмостков КВН на телевидение. Роман Альманский и Мурат Оспанов первые, кто начал снимать скетч-шоу и разыгрывать анекдоты и скетчи на телевидении по примеру более старших товарищей с российского телевидения — главные из которых в те времена были, конечно Илья Олейников и Юрий Стоянов.
Если первое поколение можно считать пионерами жанра, то следующее — уже «архитекторы» собственной школы. Кумар Лукманов, Нурлан Коянбаев, Ярослав Мелехин и их соратники стали для казахстанского КВН тем, кем для российского были в те годы ныне опальный Семен Слепаков, некогда самые дорогие и самые вездесущие Сергей Светлаков и Михаил Галустян и прочие. Если можно так сказать, символами «золотого века» игры, эпохи, когда КВН превратился из студенческой забавы в настоящую культурную индустрию.
Их успехи на московской сцене — не просто личные победы. Это был момент, когда слово «Казахстан» впервые прозвучало в КВН не как экзотика, а как бренд. Команды «Астана.KZ», «Спарта», «Каzахи» смогли не просто заявить о себе, но и диктовать стиль. Они принесли в «большой Масляковский КВН» новый тип юмора — национальный по содержанию, но универсальный по форме. В их выступлениях звучали темы, понятные каждому: бюрократия, поколенческие контрасты, вечная борьба между «восточной душой» и западным прагматизмом.
Нурлан Коянбаев, например, стал настоящим лицом казахстанского КВН в Высшей лиге (ее называют телевизионной). Харизма, чувство сцены и то самое «масляковское» умение быть одновременно и ведущим, и актером, и импровизатором вывели его далеко за рамки игры. Позже именно эти качества позволили ему стать одним из самых успешных телевизионных продюсеров страны, а его имя — гарантией зрительского доверия. Коянбаев, как и многие выпускники КВН, сделал то, что в стране долгое время считалось невозможным: превратил юмор в бизнес, а шутку — в культурный капитал. Не затерялись со временем и другие его сокомандники — хорошие медийные карьеры сделали Гульнара Сильбаева, Ярослав Мелехин, Кумар Лукманов и Нурдаулет Шертим.
В одном ряду с ними можно поставить и других кавээнщиков, ставших весьма успешными режиссерами. Сразу можно вспомнить двух Аскаров — Бисембина и Узабаева, ныне строящих карьеру в России. В середине 2010-х воплощением судьбы удачливого кавээнщика считался Нуртас Адамбай. Его путь — квинтэссенция той самой формулы успеха: немного сценического азарта, немного самопародии и огромная вера в то, что зритель примет тебя «своим». Его фильмы, от «Келинки Сабины» до «Тараза» и «Лифта», собирали аудиторию, какая не снилась ни одному артхаусному режиссеру. Он в месте с Коянбаевым открыл, казалось, беспроигрышный рецепт изготовления кассово успешных фильмов.
И если старшее поколение телевизионщиков еще держалось за своеобразный советский академизм, то кавээнщики принесли в эфир живость, разговорную интонацию и ощущение «игры на камеру». Именно они задали тот стиль, в котором сегодня живет отечественный продакшн — быстрый, разговорный, ироничный. Простая публика валом шла на эти фильмы — узнавая в них собственную жизнь, свои разговоры, свои маленькие бытовые комедии. На экране — те же лица, та же интонация, что когда-то на сцене. И именно это оказалось выигрышной формулой (по крайней мере, на время и для в целом непритязательной публики). Скептики, конечно, не дремали. Они замечали, что весь этот успех склепан из тех же составляющих, что и их старые кавээновские номера: узнаваемый типаж, живая импровизация, пародия на бытовую речь и вечная формула «казах против обстоятельств». Иногда — в буквальном смысле слова. Многие шутки, сцены, даже мизансцены, казалось, перекочевали с КВН-площадок прямо на киноэкран, лишь сменив декорации и качество картинки.
Но, как бы там ни было, публика голосовала рублем и смехом. КВН наконец превратился из «игры веселых и находчивых» в мощный культурный код — с собственной эстетикой, собственным юмором и собственной звездной системой. По сути дела, именно КВН повлиял на лицо современной казахстанской комедии. Можно долго спорить о том — положительное это влияние или отрицательное, но факт остается фактом.
Важно отметить, что далеко не все будущие лидеры индустрии непременно проходили через Высшую лигу или сияли на сцене в свете масляковских софитов. Для многих КВН стал не столько стартовой площадкой славы, сколько лабораторией — местом, где обкатывались первые сценарии, персонажи и подходы к зрителю. Так, Рустем Омаров или Алишер Утев — фигуры сегодня во многом ключевые для современного телевизионного и стримингового продакшна — не были звездами «большого» КВН. Их успехи ограничивались, скорее, республиканским уровнем, где шутки оценивали не московские жюри, а свой, казахстанский зритель. Но на результаты в карьере это никак не повлияло.
Позже именно Омаров создал одну из самых популярных телевизионных франшиз нового века — сериал «Патруль», разлетевшийся на комедийные с сатирические рилсы в TikTok и Instagram.
В этих историях про простых полицейских зритель видел и юмор, и теплоту, и узнаваемые интонации КВН.
А уже в наши дни громко выстрелил сериал Offside — с его откровенными темами, провокационными диалогами и нарочито дерзким пиаром. Мы писали о том, что шум вокруг проекта стал не меньшей частью его успеха, чем сам сценарий. Ирония судьбы заключалась в том, что автор, когда-то не попавший в Высшую лигу, сумел создать телепродукт, который обсуждала вся страна.
Но путь, открытый КВН, вел не только на телевидение или в кинематограф. У некоторых он неожиданно выводил в политику. Самый яркий пример — Бахыт Сыздыкова, бывшая кавээнщица, а позже депутат парламента и общественный деятель. В «большом» КВН она не играла — ее команда выступала на республиканском уровне, и для телевизионной славы этого, казалось бы, было маловато. Зато именно Сыздыкова стала наставницей наших больших сборных в «масляковском» КВН. Долгое время она находила спонсоров для команды, иногда даже вкладывая личные средства, что порой вызывало скандалы и горячие обсуждения в СМИ.
Путь в большую политику для Сыздыковой стал логичным продолжением ее сценической активности: та же уверенность, тот же вкус к дискуссии и к провокации. Громкие инициативы, звучавшие из ее уст, вызывали бурные споры — особенно когда она предложила узаконить многомужество, мотивируя идею правом женщин на выбор. Общество отреагировало как на взрыв, и долгое время фамилия Сыздыковой не сходила с новостных лент. Спустя годы, уже в новых реалиях, ту же тему — почти дословно — подхватила Баян Алагузова, но эффект уже был иным: не скандал, а, скорее, перформанс.
Тем не менее, сама Сыздыкова в какой-то момент устала быть в эпицентре внимания. Судьба «вечной клоунессы» — женщины, от которой ждут либо остроты, либо эпатажа — перестала ее устраивать. В конце 2010-х она постепенно ушла в тень, выбрав тишину вместо бурных ток-шоу и политических баталий. И в этом тоже была закономерность: ведь КВН — игра про чувство времени, и Бахыт, как и в юности, уловила момент, когда пора менять сцену.
Если сегодня оглянуться на панораму всех этих имен — от Губашева и Альманского до Коянбаева, Омарова и Сыздыковой — станет ясно: КВН для Казахстана был куда большим, чем просто игрой. Это была лаборатория смыслов, кузница характеров, тренажер сценического мышления и общественной реакции. Через КВН проходили не просто шутки — через него шла социализация целого поколения, его способ осмыслить действительность с улыбкой, не впадая в цинизм и не теряя самоиронии.
Но это — уже история или, точнее сказать, уходящая натура. Классическая эпоха КВН, как и ее главный символ, остались в прошлом. Смерть Александра Маслякова в прошлом году лишь закрепила то, что происходило давно: КВН перестал быть культурным институтом и превратился в одну из множества юмористических программ. Исчезла сама идея «лифта» — портала, сквозь который из университетской аудитории можно было шагнуть на сцену, а оттуда в кино, на телевидение или в политику.
В Казахстане КВН не просто утратил былую силу — он исчез как явление. Даже как телепередача он не удержался в эфире, а само понятие «командной игры» теперь выглядит анахронизмом. На смену пришли стендап и короткие видеоформаты, где шутка живет отдельно от команды, а ирония стала инструментом самопрезентации, а не коллективного высказывания.
Какую роль сыграет этот новый юмористический порядок в формировании культурного ландшафта — покажут новые времена. Но ясно одно: эпоха КВН закончилась. И, как часто бывает с уходящими эпохами, только теперь становится видно, насколько масштабным было его влияние — от экранов до парламентских и порой президентских кресел, от скетчей до сериалов. Все, что казалось просто игрой, обернулось частью истории.
Фото из открытых источников