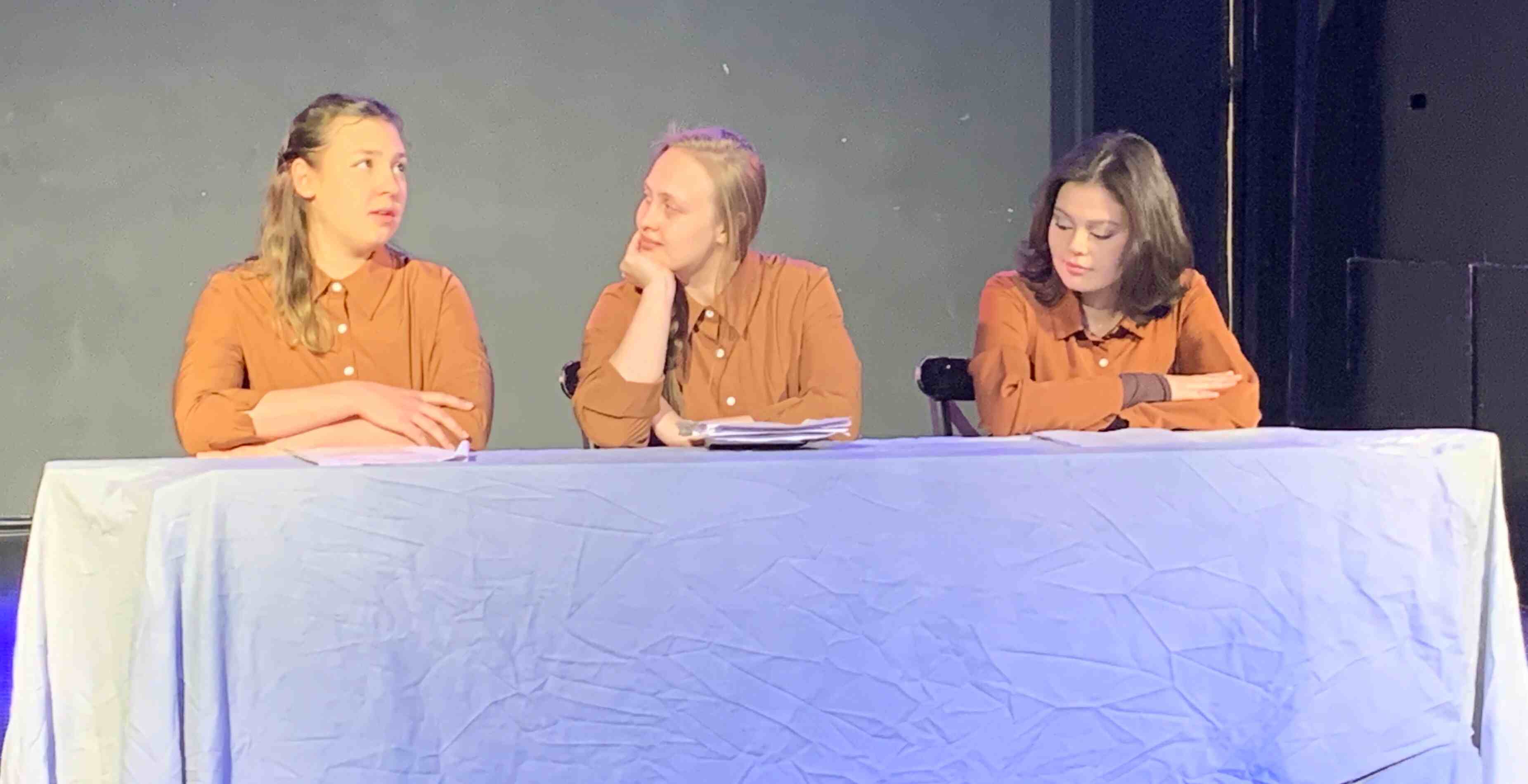Старейший в городе магазин дорабатывает последние дни, если не часы. Время сказать знакомому всем магазину тканей «Кызыл-Тан» до свидания — инициаторы реконструкции обещают, что скоро начнется новая история этого здания.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Кинотеатр, заслонивший храм. Третья жизнь «Целинного»
Историк, математик, культуролог. Кто жил в «розовом» доме в Алматы
Здесь жил Байтурсынов: тайны старейшего дома Алматы
Появившиеся еще в начале лета слухи о том, что здание магазина тканей «Кызыл тан» готовятся снести, взбудоражили многих алматинцев. Тем более, что не так давно снесли другой дом, находившийся рядом, некогда также принадлежавший купцу Габдулвалиеву, а в кафе, примыкающем к зданию «Кызыл-Тана», произошел таинственный пожар. Что многих сразу насторожило — а не принесут ли в жертву этот символ старого Верного?
Сейчас известно, что «Кызыл-Тан» передан Центру развития креативных индустрий Almaty Creative. Здесь обещают, что никакого сноса не будет и уже ведется разработка научно-реставрационной документации. Работы согласованы с министерством культуры, а проект предусматривает сохранение исторического облика здания.
После реставрации власти хотят превратить памятник архитектуры в культурный кластер, где будут развиваться казахстанские дизайнеры, рождаться бренды и происходить модные коллаборации. Как будет проходить эта реконструкция, конечно, нужно еще наблюдать. Увы, городская история знает и не самые лучше примеры реставраций исторических зданий.
Тем не менее, прошлое у этого дома весьма богатое. Мы уже писали об основателях того самого первого магазина — купеческом клане Габдулвалиевых. Однако не менее интересное творилось там после ухода из жизни основателя клана Исхака Габдулвалиева. Умер он в 1911 году, а спустя три года, когда началась Первая мировая война, его детей призвали на фронт. Старший сын Юсуф, скрывшись от мобилизации, уехал в Кульджу. А Кутдус, младший сын, все же попадает на фронт. Сведения о дальнейшей судьбе братьев разняться, но ясно одно — к моменту Октябрьской революции семейный бизнес Габдулвалиевых близился к своему упадку.
С приходом советской власти частная собственность была запрещена, и большая семья Габдулвалиевых расползается по стране и миру в поисках лучшей жизни и пытаясь хоть как-то спасти осколки семейного состояния. И хотя их магазин еще работает вплоть до конца 1920-х, семье он уже не принадлежит — там лотки снимают другие арендаторы. А в 1930-е годы и для семьи, и для страны наступают особо тяжелые времена.
В новой жизни после революции членам семьи верненских торговых магнатов пришлось очень несладко. Если вчера они не считали деньги и жили на широкую ногу, то в новой жизни элементарно устроиться на работу и прокормиться стало проблемой. Ведь члены купеческих семей автоматически становились лишенцами: им запрещалось получать высшее образование, жить в крупных городах. Их лишали даже права получать пенсии и пособия. Поэтому всем Габдулвалиевым пришлось выживать на пределе ресурсов. И если в 1920-е, годы НЭПа, когда сохранялась свобода торговли, это было еще возможно, в 1930-е они лишились и этого. В 1931 году в СССР официально была отменена частная торговля и почти все продукты теперь не продавались, а распределялись по карточкам.
В начале 1930-х годов советская власть столкнулась с тяжелыми задачами: ускоренная индустриализация требовала иностранной валюты и зарубежной техники, внутренняя экономическая модернизация — материальных ресурсов. Одним из инструментов, с помощью которых Кремль решил пополнить валютные резервы, стало Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами — Торгсин.
Торгсин официально создали летом 1930 года; изначально сети магазинов действительно позиционировались как «торговля с иностранцами» — место, где иноземцы могли купить редкие продукты и импортные товары за иностранную валюту. Многим, конечно же, на память придет фрагмент легендарного булгаковского романа «Мастер и Маргарита» — как Коровьев и Бегемот навели шороху в московском Торгсине. Многие вспомнят и кадры из экранизации Владимира Бортко с Александром Абдуловым и Александром Башировым. Живописно там показаны и холеные иностранцы, закупающие лучшие продукты за доллары. Хотя Торгсины открывались не только и даже не столько для них. Эти магазины предназначались для советских граждан, если те расплачивались валютой, золотом или драгоценностями. В условиях материального дефицита Торгсин быстро стал источником товаров лучшего качества: сахар, мясо, кондитерские изделия, ткани, посуда и даже импортные деликатесы — все то, что было трудно достать в обычных распределительных магазинах.
Причин создания и задач у Торгсина было две. Одна — открытая, это торговля и обслуживание иностранцев, вторая, главная по сути, — аккумулировать векселя, валюту и драгоценности для финансирования закупок за границей и пополнения валютных резервов государства. В практической реализации это означало: государство покупало у населения золото и украшения по заниженным ценам и продавало им же дефицитные продукты по завышенным тарифам — разница шла в государственный фонд. Многие историки очень метко назвали такие манипуляции «алхимией», подразумевая в этом пример сочетания плановой экономики с жестко прагматичным коммерческим механизмом.
В Алма-Ате Торгсин открывался также формально для обслуживания иностранцев. Во-первых, это были иностранные консультанты и специалисты, занятые на строительстве Турксиба. Во-вторых, приграничная торговля с Китаем, а точнее, с Синьцзяном не прекращалась и в те годы. Но, конечно же, главная цель была совсем другая.
По общесоюзной схеме, алма-атинская сеть Торгсина обслуживала в первую очередь тех, кто имел «валютные ценности» — иностранную валюту, драгоценные металлы и украшения. На практике это значило следующее: в витринах — товары качественнее и разнообразнее, чем в обычных гастрономах и промтоварных лавках города; за эти товары можно было расплатиться либо иностранной валютой, либо сдать золото/серебро, либо получить специальные чеки/ордеры Торгсина. Для горожан и сельских переселенцев это часто был единственный легальный способ достать сахар, крупы, мясные консервы, импортную мануфактуру и пр. — причем по относительной цене, выгодной только при наличии валюты или ценностей.
Порой филиалы принимали валютные переводы, отправленные из-за рубежа эмигрантами, — родственники на родине могли «отоварить» эти деньги в Торгсине.
Не стоит забывать, что Казахская АССР в тот момент переживала катастрофические последствия коллективизации — голод и разорение скотоводческих хозяйств. Местные жители, лишенные средств к существованию, шли в Торгсин, чтобы продать семейные украшения или сдать драгоценности в обмен на продукты — нередко это был акт отчаяния: последние кольца и цепочки меняли на мешок муки или ведро сахара.
А не ходить в Торгсин возможностей практически не было. Альтернативой ему были либо колхозные рынки, либо мешочники. Ведь запрет частной торговли предусматривал разные нормы снабжения: даже пролетариат снабжался по-разному. Нормы определяла всесоюзная карточная система. Города разбиты на четыре списка. Лучше всех обеспечиваются главные индустриальные центры, а в них — люди, занятые в тяжелой промышленности. Шахтеры Караганды и бурильщики Каспия могли купить в месяц 3 кг мяса, 2 кг рыбы, 1,2 кг сахара, 2,4 кг крупы, 400 г масла. Трудящимся фабрик и объектов легкой промышленности по первой категории положено по 0,5 кг мяса, 1,5 кг рыбы, 1 кг крупы и 0,8 кг сахара, а остальным — только 1 кг рыбы и 400 г сахара. У военных и чекистов пайки были весьма добротными, а руководящим работникам первого ряда полагалось 4 кг мяса, 4 кг колбасы, 8 кг рыбы, 3 кг сахара, 1 кг кетовой икры, молочные продукты, овощи, фрукты для них отпускались без ограничений. Лишенцам (дворянам, духовенству, купцам — в том числе и бывшим хозяевам торгового дома Габдулвалиевых) карточки и вовсе не полагались. Крутиться приходилось почти всем. Крестьяне, приезжая в города на колхозные рынки, предпочитали не продавать продукты, а обменивать их. Советские дензнаки после коллективизации практически ничего не стоили не только за рубежом, но и внутри страны. Уничтожив частную торговлю, советская власть сама превратилась в главного «коммерсанта». Появились два ценника: один — по карточкам, другой — «коммерческий», в два-три раза выше. За завышенную цену можно было купить продукты свободно, без очередей и талонов. К 1934 году такая практика охватила уже 746 населенных пунктов — фактически все города и крупные поселки страны.
На ткани, обувь и одежду государство установило свои хитрые «коэффициенты»: «среднеповышенные» и «сильноповышенные», в зависимости от спроса. Но настоящий парадокс заключался в том, что в распределителях для номенклатуры цены, напротив, оказывались даже ниже карточных. Те, кто и так снабжался лучше всех, платили меньше всех.
Система снабжения определяла буквально все: какой тебе столовой пользоваться, в какой больнице лечиться, куда отправить ребенка в сад или в санаторий, а то и на дачу или в элитный вуз вроде Совпартшколы. Чем выше должность — тем доступнее блага. При такой иерархии неудивительно, что процветал «черный рынок». Его дельцы умудрялись жить порой богаче и вольготнее, чем многие крупные советские чиновники. Разумеется, что при такой ситуации все старались завести нужные и полезные знакомства. Термин «блат» часто ассоциируется у нас с брежневскими временами, однако пословица «Блат главнее Совнаркома» ясно дает понять, что эта традиция берет начало там, в тридцатых.
За пять лет потребительская экономика настолько разбалансировалась, что в 1936 году власть ввела определенные послабления. Снова вернулась торговля, пусть и государственная. Упразднили карточки и тогда же закрыли Торгсины. В будущем «Кызыл-Тане» стал работать обычный городской универмаг вплоть до 1981 года, когда магазин, собственно, и станет Домом тканей.
Сколько же стоил такой эксперимент? По оценкам историков и экономистов, всего за пять лет работы спецмагазинов у населения было извлечено около 270-280 миллионов инвалютных рублей. По самым скромным подсчетам, на сегодняшние цены эта сумма потянула бы на более полумиллиарда долларов. Каковы последствия — об этом историки с разных идеологических позиций до хрипоты спорят и сегодня. С одной стороны, уничтожены миллионы трудоспособных крестьян, и перманентные проблемы в сельском хозяйстве прямиком идут оттуда. С другой стороны — мощнейшая промышленность, выдержавшая экзамен в виде Второй мировой войны.
Сами же понятия и принципы Торгсина исчезли вместе с советской властью. Либеральная экономика, к счастью, не предполагает закрытой ведомственной торговли дефицитом. Как говорится, были бы деньги. Но у этого явления уже другая природа.
Фото из открытых источников