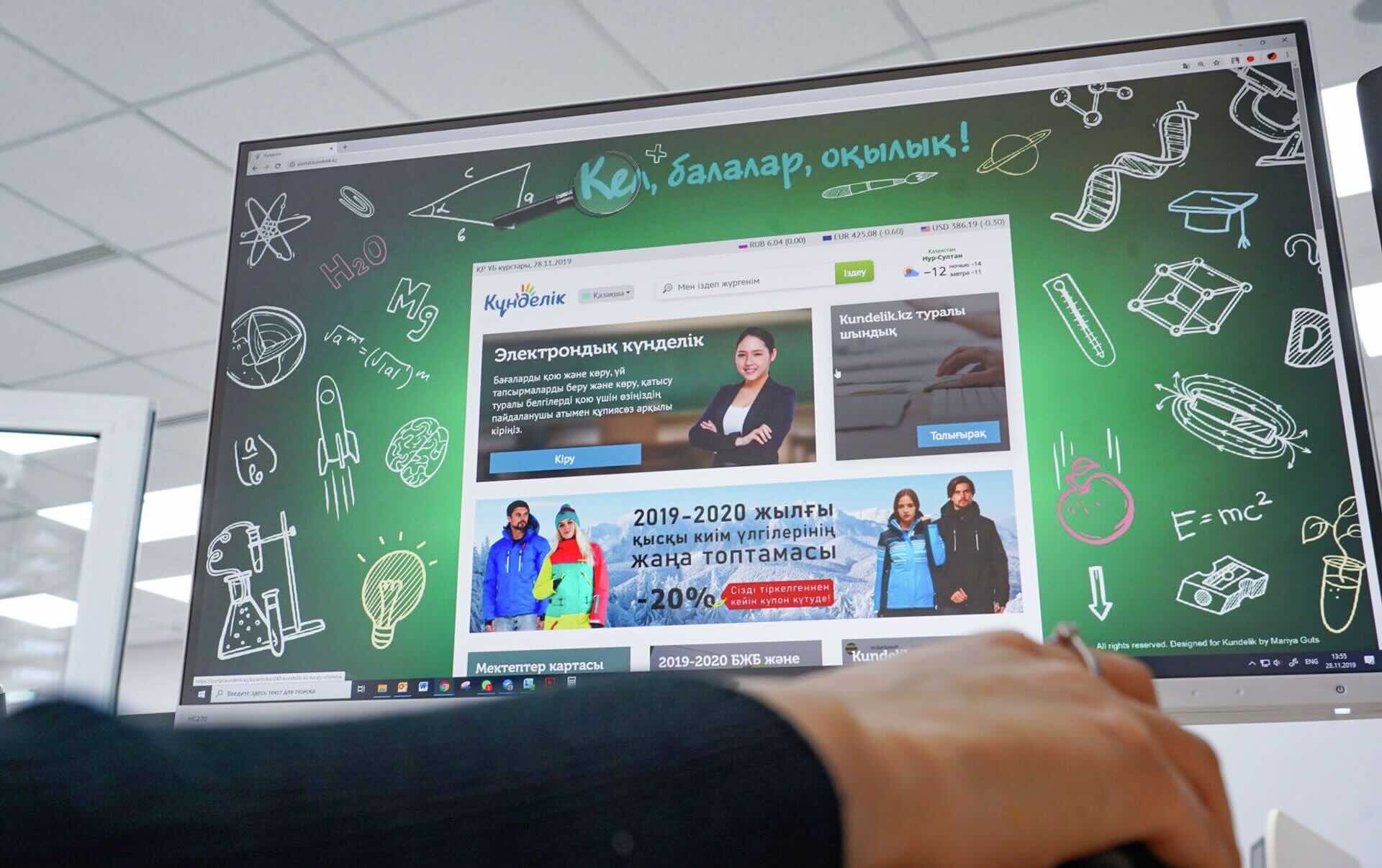Сергея Уфимцева хорошо знают и любят алматинские театралы. Более тридцати пяти лет он остается ведущим актером Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова, при этом давно и уверенно работает в кино — не только в Казахстане, но и за его пределами. О театре и экране, о профессии и ее испытаниях мы поговорили с Сергеем Анатольевичем, начав разговор с испано-казахстанского фильма «Перемирие», снятого при поддержке платформы Netflix.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Динара Бактыбаева: Всегда хотелось, чтобы мама была счастлива
Алексей Шемес: Я искал Спилберга!
Канагат Мустафин: Общество готово к серьезному кино
— Из самых свежих проектов с вашим участием на слуху, пожалуй, испано-казахстанский фильм «Перемирие». Расскажите о работе над этим проектом? Не каждый день удается поучаствовать в проекте Netflix…
— Посчастливилось три месяца поработать в Испании. Впечатления, конечно, потрясающие! Надо сказать, что съемки вообще задержались на три месяца. Для проекта была построена огромная декорация под Бильбао. Это бывший запасной аэродром — и именно в этом месте решили построить большую съемочную площадку. Изначально планировали снимать летом, но один из актеров — один из главных — попал в аварию, разбился на мотоцикле. Полгода реабилитации, поэтому съемки перенесли на зиму.
Для меня, как для сибиряка, — это прекрасно. Плюсовая температура зимой, вообще довольно мягкий, почти курортный режим.
Мы снимали в районе Бильбао, причем не в самом городе, а где-то рядом. Там небольшое нагорье. Температура — ноль, минус один, минус два. Я в шинели, в перчатках — вообще никаких проблем. Проблемы начались позже, когда по сюжету пошло «лето». И проблемы больше у моих партеров, которые в одних только арестантских робах. Мне-то в моей шинели по-прежнему комфортно. Хотя, когда начали пускать искусственный дождь, то тут, конечно, многие начали расклеиваться. Я, когда еще думал, что едем летом, уже размечтался — Бильбао, пляжи… Губу раскатал, конечно. А в итоге — грязь, вода, сапоги, холод.
— Подходы в работе у нас и в Испании сильно отличаются?
— Режиссером проекта был Мигель Анхель Вивас — режиссер культового сериала «Бумажный дом». У него был вообще особый метод. Формально — есть раскадровки, план, график. Все выстроено, но в какой-то момент ему что-то приходит в голову — и все меняется. Он вдруг говорит: «Так, это убираем, это ставим сюда, снимаем вот этот кусок». Причем этого эпизода вообще не было в сценарии.
Или увидел какую-то деталь — нашивку, складку, жест — и говорит: «Давайте укрупним. Давайте снимем вот так». Это импровизация в чистом виде. Что раздражало постановочную группу: костюмеров, гримеров. Потому что у них все по графику: одни отдыхают, другие работают. А тут бац — срочно переодеться, срочно поменять грим, срочно перестроить свет. А это время, камеры, техника. Для них переработки совсем не характерны — это для нас такое в норме. Хотя мы всего три раза вышли в серьезную переработку, для них был прям экстрим!
А мне, наоборот, это было интересно. Мне нравится, когда режиссер живет процессом, когда он не просто отрабатывает план, а ищет. Вот это ощущение — что ты не по шаблону идешь, а что-то настоящее сейчас рождается — мне близко.
— Сам материал как вам?
— Материал, как я понял, большее впечатление произвел на испанцев. Для нас — ГУЛАГ, лагеря — мы это видели уже много раз. А для них это живая, болезненная тема. До сих пор. Франко, республиканцы — это у них не забывается. Там кинотеатры были битком. После сеансов — стоя аплодировали. 99 процентов зрителей — испанцы. Это про них. Про их боль, про их историю.
Мне присылали видео с премьер, с обычных кинотеатров — народ реально ломился. А у нас как-то незаметно он прошел.
— Вы пришли в актерскую профессию довольно поздно по театральным меркам — после 25 лет. До этого успели сменить множество, скажем так, «мужских» профессий: флот, армия, БАМ, водитель-дальнобойщик. Что привело вас в искусство после такого жизненного хардкора?
— Да, профессий я действительно сменил много. Начинал слесарем, автослесарем, работал дворником. Потом окончил техникум — до армии, служил, был вторым помощником капитана. После армии — БАМ, зимники, фуры, дальнобой. Физической работы в моей жизни было более чем достаточно.
Скажу честно: актером я становиться не планировал. Даже мысли такой не было. Я не имел к этой профессии прямого отношения. Хотя — если задуматься — предпосылки все-таки были. Моя мама работала терапевтом на всесоюзном курорте в городе Усть-Кут, а параллельно подрабатывала культмассовиком. Зарплаты у медиков тогда были небольшие, и она ставила с отдыхающими мини-спектакли, сценки, концерты. Я играл на гитаре, занимался бальными танцами, участвовал в этих миниатюрах — но все это воспринимал как нечто случайное, не как профессию.
После армии я женился, родился сын, но семейная жизнь не сложилась. Через три года я решил все резко поменять и уехал в Иркутск с другом. Возвращаться назад не хотелось — ни при каких обстоятельствах. Денег сначала было достаточно, мы играли в ансамбле, но они быстро закончились. Нужно было как-то устраиваться в жизни.
И тут мама написала, что познакомилась на курорте с заслуженной артисткой Иркутского драматического театра имени Охлопкова. Она рассказала ей обо мне, и та согласилась меня прослушать — несмотря на то, что набор уже закончился, группа была укомплектована, а мне было 24 года, что по тем временам считалось почти запредельным возрастом для поступления.
За одну ночь я подготовил программу: Шукшин, Крылов, Маяковский. Утром показался комиссии — при директорах, педагогах, всей группе студентов. И прошел. Меня взяли на допнабор — вольнослушателем, без стипендии, с условием сдать сессию наравне со всеми. Полгода я ходил на все занятия и сдал все на пятерки. После этого меня официально зачислили, дали стипендию — 30 рублей — и так я отучился все четыре года.
Я не шел в эту профессию с мечтой или фанатизмом. Скорее — чтобы зацепиться за жизнь, не возвращаться назад. Но, как это часто бывает, профессия постепенно затянула. И тогда стало ясно: никакая она не «женская». Это тяжелый, изматывающий, мужской труд — просто другого свойства.
— Как вы оказались в Лермонтовском театре?
История на самом деле длинная, но, если коротко — все сложилось цепочкой случайностей.
Еще на четвертом курсе в Иркутске меня готовы были брать и в драматический театр имени Охлопкова, и в вампиловский ТЮЗ. Более того, я одновременно участвовал в одном и том же спектакле — пьесе «Свалка», которую оба театра ставили параллельно, словно соревнуясь друг с другом. После выпуска меня звали и туда, и туда — но я ни в одном не остался.
В то время драматург Владимир Гуркин, который написал «Любовь и голуби», приехал в Иркутск и забрал полкурса в Смоленск — создавать новый театр. Я уехал вместе с другом, хотя мог остаться в музыкальной группе: тогда это сулило хорошие деньги. Но в Смоленске не сложилось, и мы собирались ехать в Москву — на театральную биржу.
И тут снова вмешался случай. Одна из наших сокурсниц, ученица Преображенского, предложила написать рекомендательное письмо в Лермонтовский театр. Я еще даже домой не доехал, как получил телеграмму с приглашением. Решил: приеду на пару лет — а там видно будет.
В ТЮЗе сначала не срослось, потом я работал в студии у Паши Штифмана. А в 1989 году в Лермонтовском театре понадобилась срочная замена в спектакле «Бедный Пьетро» — актер уезжал на съемки. Меня ввели в постановку, режиссер посмотрел работу, и после спектакля Рубен сказал: «После Нового года приходи. Пока — на договор».
Три года я отработал на договоре, потом меня взяли в штат. Так я и остался. И, как оказалось, надолго.
— Многие зрители отмечают ваше так называемое «отрицательное обаяние». Вам легко удаются отрицательные персонажи! Бытует мнение, что для актеров это сущее удовольствие
— Это правда! Наверное, одна из самых интересных недавних для меня ролей в этом амплуа — Дракон по пьесе Шварца. Я любил этот спектакль именно потому, что роль была по-настоящему отрицательная и очень сложная. Там я играл сразу трех персонажей — три головы Дракона, каждая со своим характером, пластикой, мышлением.
Одну мы сделали такой — резкой, силовой, «упал-отжался». Вторая — жантильная, почти мушкетерская. Третья — старик, уже изношенный, с сединой. Все это мы придумывали вместе с Андреем Кизиловым, искали технические и актерские решения, потому что на сцене это гораздо сложнее, чем в кино.
Почему я люблю отрицательных героев? Потому что они характерные. Их нужно разбирать, копать, находить в них противоречия. В «положительном» герое часто все лежит на поверхности — он однотипен, везде примерно одинаков. А здесь — работа, поиск, глубина. Для меня это и есть настоящее актерство.
— Если вспомнить других ваших театральных «злодеев», то потрясающий у вас был Тропачев из тургеневского «Нахлебника». Такой получился гаденыш! У вас был потрясающий дуэт с Юрием Борисовичем Померанцевым. Ваши издевки над ним зрителей возмущали!
— Это еще что! Мои друзья, посетив этот спектакль, сказали: «Серега, если б мы тебя не знали, мы бы после спектакля тебя бы подкараулили и рожу начистили!» Хотя я всегда вспоминаю сцену застолья в этом спектакле — она очень длинная и решающая для спектакля.
Эти дупели, стол, трапеза. И я в этой сцене был ведущим — держал ритм, вел партнеров. И все удивлялись: я успевал и сцену провести, и тарелку вычистить подчистую. Одновременно ел, играл, иронизировал, стебался. После спектакля коллеги говорили: «Мы думали — потом поедим. Какой там? Все! Уфимцев за двоих отработал».
— А вот какая роль стала для вас максимальным выходом «на сопротивление» — максимально далекой от привычного образа?
— Конечно, нужно вспомнить здесь «Дядю Ваню», где я играл Войницкого. Это как раз тот случай, когда сопротивление было не только внутренним, но и чисто физиологическим, возрастным. Спектакль ставил Азербайжан Мамбетов, и тогда мне было 33–34 года, а Войницкому — под пятьдесят. Когда произошло распределение, я подошел к нему и сказал: «Азербайжан Мадиевич, вы что, издеваетесь? Мне тридцать с небольшим, ему сорок восемь. Как это вообще возможно?»
Он ответил очень просто: «Я тебя в этой роли вижу. Других — не вижу». Точно так же, как позже другой режиссер сказал мне: «Я вижу тебя Сенекой — и все».
Для меня это и было сопротивление. Я был моложе своего героя, внутренне и внешне. И с этим пришлось серьезно бороться. Первые годы я в этой роли буквально «не помещался» — ощущал себя не в своей тарелке, все время казалось, что я играю не свое.
Но прошло три-четыре года — и роль начала догонять меня. Я стал входить в нее не по возрасту, а по состоянию. Войницкий ведь не столько про паспорт, сколько про внутреннюю усталость, про ощущение прожитой впустую жизни, про накопленную боль и несбывшиеся надежды.
Если говорить, чем эта роль далека от меня — она не взрывная. Там нет резких вспышек, нет демонизма, нет внешней характерности, к которой я привык. Войницкий — это внутреннее тление, медленное, мучительное. И сыграть это гораздо сложнее, чем яркого отрицательного героя. Вот это и есть настоящее сопротивление — когда ты не можешь спрятаться за характер, за темперамент, за внешнюю энергию. Когда нужно существовать в тишине, в паузе, во внутреннем надломе.
Если из недавнего, то это, пожалуй, Сенека в спектакле по Радзинскому.
Когда режиссер предложил мне эту роль, я был уверен, что это ошибка. Какой из меня Сенека? Я не философ, не мыслитель в классическом смысле. Я скорее видел себя в роли Нерона — я ведь играл Калигулу, и этот типаж мне был ближе.
Но режиссер настоял. Сказал: «Сенеки должны быть разными». И тогда началась настоящая работа. Я перечитал тексты Сенеки, его письма, трактаты, изучал исторический контекст. Потому что это не выдуманный персонаж — это реальная фигура, и к ней нельзя подходить поверхностно. Эту роль невозможно сыграть, не зная, о чем и как он думает.
— А были ли в вашей карьере положительные персонажи, которые, наоборот, оказались вам максимально близки по характеру и состоянию?
Даже не сразу вспоминаются. Были какие-то нейтральные роли, проходные — но это не то.
Наверное, один из таких персонажей — Булгаков. Он положительный, но не прямолинейный, сложный, с внутренним напряжением.
— А я вспоминаю вашего мага-авантюриста в «Отеле двух миров». Положительный ведь герой, хоть и специфический!
— О, в этой роли в по-настоящему купался! Мой маг Раджапур, — вот это действительно мне близко. Он положительный, но с иронией, с юмором, с легкостью. Там нет пафоса, нет морализаторства — зато есть умение посмотреть на мир с улыбкой и помочь другому человеку, если можешь. Ирония, человеческое тепло, готовность протянуть руку — все это во мне есть и в жизни. Поэтому эта роль легла очень органично.
Мне вообще близки персонажи, в которых есть свет, но без сладости. Когда добро не напоказ, а естественное. Когда можно и пошутить, и поддержать, и просто помочь — без лишних слов.
А еще был спектакль «Рогоносец» по пьесе бельгийского драматурга Кроммелинка. Главного героя, кстати, в свое время играл и Константин Райкин. У нас в театре художником работал Александр Львович, и он как-то привел на спектакль своего друга — хирурга. После поклона тот захотел со мной встретиться. Мы сидим в гримерке, и он спрашивает: «Ты делал наблюдения? В психушку ходил? Изучал пациентов?»
Я говорю: «Нет. А что?»
А у меня там персонаж постепенно сходит с ума. Обычный человек, деревня, он безумно любит жену. Уходит на работу, возвращается — и ему начинает казаться, что она ему изменяет. Сначала сомнения, потом подозрения, потом навязчивость. И дальше — шаг за шагом — разрушение личности. В итоге он сам толкает ее в измены и заканчивает жизнь самоубийством на водяной мельнице.
И этот хирург мне говорит: «Ты очень точно сыграл механизм. Я его знаю. Эти переключения: нормальный человек — трещина — еще одна — и вот уже совсем другой взгляд. Потом еще шаг — и человек живет в своей реальности».
И вот для меня это был, наверное, один из самых сильных профессиональных комплиментов. Потому что я ничего специально не подсматривал, не копировал. Я просто проживал. А значит — попал.
— Вы упомянули о Булгакове — хотел о нем поговорить отдельно. Вы ведь сыграли Михаила Афанасьевича в спектакле по пьесе Дулата Исабекова «Сети дьявола». Об этом человеке и по сей день спорят и в культурном, и в мистическом контексте. Удалось ли вам для себя разгадать феномен Булгакова? Ведь версий много — от мистических, почти демонических, до вполне приземленных: морфий, зависимость, изменённые состояния сознания.
— Я, честно говоря, больше склоняюсь ко второй версии — к морфию. Не к чертовщине в прямом, бытовом смысле. Я это понимаю по собственному опыту. Я никогда не был наркоманом, но я пробовал разные состояния. Алкоголь, например. Не запойно, не разрушительно, но бывало. И я хорошо знаю это ощущение, когда что-то вдруг открывается.
Когда ты в измененном состоянии — вдруг начинаешь писать, сочинять, видеть иначе. Я в свое время писал стихи, песни, даже записал один альбом. И бывало так: на трезвую голову ты никогда бы до этого не додумался. А тут — будто открывается какой-то портал, и оттуда льется поток. Ты только успеваешь фиксировать. Если не зафиксировал — все исчезает.
Мне кажется, у Булгакова было нечто похожее. Не в том смысле, что он «водился с дьяволом», а в том, что он существовал в состоянии, которое советская реальность принять не могла и не хотела. Это не укладывалось ни в идеологию, ни в быт, ни в представления о норме.
Играть Булгакова для меня было невероятно тяжело. Перед каждым спектаклем меня буквально колбасило. Я не могу это рационально объяснить. Я ловил себя на том, что внутренне прошу у него прощения за то, что выхожу и «изображаю» его. Ни с одним спектаклем в жизни у меня не было такого состояния, как с «Сетями дьявола».
Но самое главное — это переступить. Выйти. Сделать первый шаг. Потом вдруг все выравнивалось, начинало идти, складываться, и я понимал: сейчас я доношу смысл, сейчас я на своем месте.
Булгаков, конечно, человек очень неоднозначный. Его мистику я, скорее, принимаю — не как чертовщину, а как ощущение иного уровня реальности. И я этого, честно говоря, побаивался.
Материал сам по себе был очень сложный. Дулат Исабеков написал очень авторскую пьесу. В изначальном виде он вообще был почти не «играбельный». И здесь огромная заслуга режиссера спектакля, нашего тогдашнего художественного руководителя Рубена Суреновича Андриасяна — он многое переработал, «причесал», сделал сценически внятным. Плюс сильная команда актеров — Ирина Лебсак, Лариса Осипова, другие. Это все вытягивало спектакль.
Рубен Суренович мне тогда сказал: «Я тебя вижу в этой роли. Ты на него похож». Возможно, внешне, возможно, по внутреннему нерву. Не знаю. Но этот спектакль был для меня испытанием. И, наверное, именно поэтому — одним из самых важных.
— Для широкой аудитории вы открылись благодаря сериалу «Саранча». Ваш герой — адвокат Ким Русланович Мамаев — получился почти классическим мыльнооперным злодеем, но при этом довольно неоднозначным. Как вы входили в новый для вас стиль работы?
— Театр и кино — это совершенно разные профессии. В театре ты входишь в роль постепенно: репетиции, потом спектакль целиком — с развитием, кульминацией, финалом. Ты проживаешь историю от начала до конца. Не говоря о том, что от спектакля к спектаклю ты шлифуешь свое мастерство, спектакль начинает жить своей жизнью.
В кино все не так – сегодня снимают финал фильма, завтра — начало, послезавтра — середину. И ты должен мгновенно включаться: в состояние, в эмоцию, в ситуацию. «Мотор» — и ты уже плачешь. С чего? Это невероятно сложно.
Здесь нужна прежде всего техника. Талант — это хорошо, но одного таланта мало. Именно поэтому существуют театральные институты: они не учат таланту, они учат технике управления собой.
— Ломали ли вашу театральную актерскую технику на съемках «Саранчи»?
— Ломали! Потому что первые съемочные дни перед камерой я все равно играл «на зал», как говорится, «на самую галерку». И здесь огромная благодарность Абаю Карпыкову, продюсеру этого сериала. Он снимал пилотные серии как сорежиссер, был рядом, терпеливо объяснял, учил киноязыку: меньше педалировать, больше естественности, точнее существовать в кадре.
Другой режиссер мог бы сказать: «Нет, вы нам не подходите. До свидания». А здесь со мной возились. И если тебе действительно нужен актер под конкретного персонажа — с ним нужно работать. Это же очень легко — прийти на все готовенькое, очень условно показать, как играть, и слепить материал. Так что большая благодарность Абаю. В итоге из меня получился вполне приличный киноактер.
Ну и, конечно, меня стали узнавать после этой роли.
Некоторые перешептывались за спиной «это он, видел, Саранча!», а некоторые просто подходили и благодарили за работу, говорили приятные слова.
— Несложно было работать на длинные дистанции? Сейчас редко снимают по 150-200 серий без перерыва…
— Наоборот. Для меня чем дольше проект — тем лучше. Если честно — и с материальной точки зрения тоже. Это нормальная часть профессии. Но если ее вынести за скобки — ты со временем срастаешься с персонажем. Начинаешь что-то придумывать, привносить. Предлагаешь режиссеру: «А если вот так?» Он говорит: «Отлично, оставляем». И ты увлекаешься этим человеком, этой историей.
Меня совершенно не тяготило, что это 190 серий. Наоборот: «Ну что, поехали. Что мы сегодня замутим?»
Потом было приятно, что мой герой развивался — под конец этому мерзавцу все-таки добавили человечности. Придумали, что у него погибла дочь и жена сошла с ума. Это как-то его оправдало в глазах зрителей.
В то время у вас случилось несколько других киноработ, которые отметили кинокритики. Это фильмы Геннадия Земеля «Бунт палачей» и «Борщ из французских лягушек». Какое место они в вашей творческой судьбе занимают?
Нет, конечно, я вспоминаю это с теплотой. Но если честно — когда шли сами съемки, у меня все время было ощущение какой-то несерьезности. Я очень хорошо отношусь к Земелю, но, если честно, очень серьезно к этим проектам не относился. Я о них даже не очень вспоминаю — было и было.
— Что бы сами отметили из недавних своих киноработ?
— Из недавнего мне очень понравилось участие в психологическом триллере «Тор». У меня там роль второго плана, я появляюсь ближе к финалу, но сам процесс оказался для меня по-настоящему интересным.
Я вообще очень люблю психологические триллеры. Не ужастики и не боевики — это не мой жанр. А именно сложные детективы, психологические истории с внутренним напряжением, сюжетным «выподвертом» и неожиданным финалом. Это то, что мне по-настоящему близко.
— Вы часто работаете с Аканом Сатаевым.
— Да, и я всегда этому рад. Мы с Аканом многое прошли вместе. До сих пор с теплотой вспоминаю работу в фильме «Бауыржан Момышулы», где я играл ординарца Бауыржана Момышулы. Это была очень серьезная, ответственная работа — и в человеческом, и в профессиональном смысле.
Или эпизод, но очень яркий, в фильме «Ликвидатор».
Интересным опытом стало и участие в фильме «Научи меня жить», где я впервые столкнулся с Аканом не только как с режиссером, но и как с партнером-актером. Это совершенно особое ощущение — когда человек, который обычно стоит по ту сторону камеры, вдруг оказывается рядом с тобой в кадре. Процесс сразу видится под другим углом, с иного ракурса. Очень странное и при этом любопытное чувство. И еще, совсем скоро, надеюсь, свет увидит новая экранизация «Ревизора», которую снял Акан.
Мне кажется, это будет необычный взгляд и очень нетипичный формат. Картина снята в клиповом ритме — и, на мой взгляд, именно для «Ревизора» такой подход подходит как нельзя лучше.
Если вдуматься, Гоголь во многом сам это закладывал в текст пьесы: бесконечные описания странных персонажей, которые возникают то здесь, то там, чаще в пересказах, чем в прямом действии. Все это гораздо интереснее и точнее визуализировать, чем просто проговаривать.
Поэтому мне кажется, что этот «Ревизор» после множества неудачных экранизаций имеет все шансы стать по-настоящему удачным и современным прочтением.
Фото пресс-службы Театра им. Лермонтова