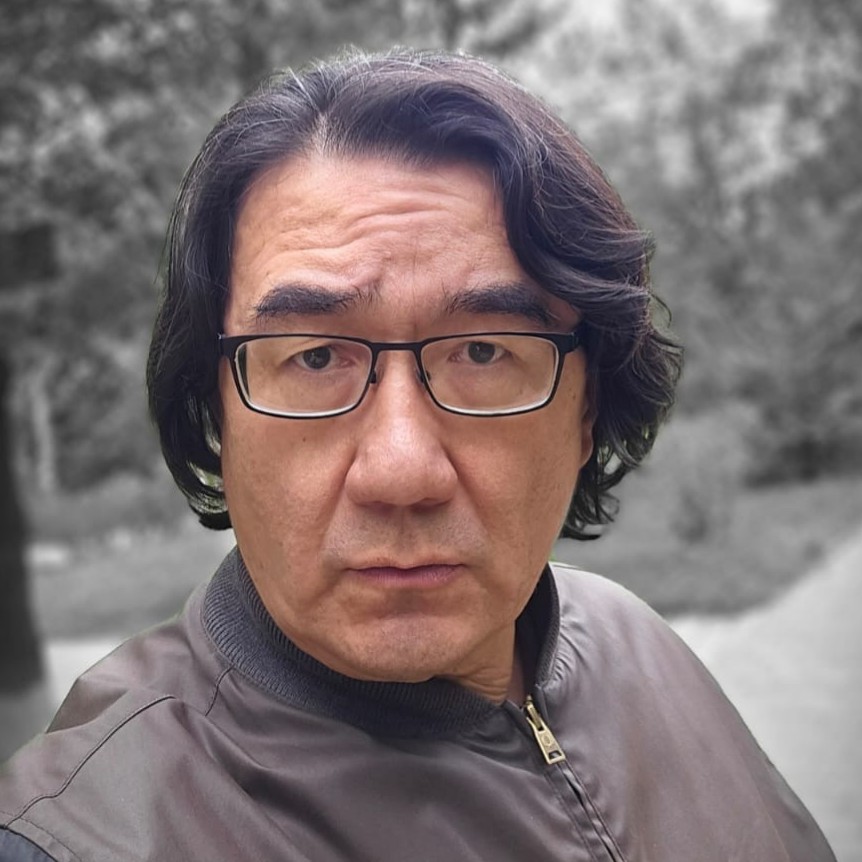Нарастающая конфронтационность в оценках внешнеполитических ориентаций Азербайджана со стороны российских и проиранских комментаторов указывает на трансформацию восприятия Южного Кавказа как потенциального театра второго фронта геополитического противостояния. В публичной риторике и медийных нарративах фиксируется усиление алармистской парадигмы, в которой Азербайджан предстает не как партнер, а как возможный инструмент дестабилизации Северного Кавказа и союзник недружественных внешних участников.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Зангезур под вопросом: вчера оптимизм, сегодня — спекуляции
Азиатское вето. Южный Кавказ не пустили в ШОС
Зангезур и Казахстан. Риски ассиметричной зависимости
По информации, якобы обсуждавшейся в узком составе в рамках недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества, российская сторона представила документы, указывающие на возможную логистическую и финансовую вовлеченность отдельных представителей азербайджанской диаспоры в Казахстане и аффилированных с ними чиновников в инциденте на авиабазе в Энгельсе 5 апреля (напомним, тогда дроны ВСУ атаковали аэродромы в России с размещенными на них стратегическими бомбардировщиками — прим. ред.). Формальных обвинений не выдвинуто, однако сам факт закрытого обсуждения указывает на высокий уровень обеспокоенности в российских и китайских структурах.
Одновременно в ряде информационных утечек утверждается, что Азербайджан может стать транзитной территорией для проникновения на территорию Российской Федерации боевиков радикального исламистского толка, якобы готовящихся к переброске из Пакистана. Конспирологическая природа подобных утверждений очевидна: отсутствуют верифицируемые источники, прямые подтверждения или официальные обвинения. Однако сама постановка вопроса иллюстрирует изменения в восприятии Азербайджана в экспертных кругах, где активная внешнеполитическая линия Баку рассматривается как вызов сложившемуся региональному статус-кво.
Особую тревогу вызывает возможная трансформация Азербайджана из условного «нейтрального партнера» во «враждебного актора». В этом контексте показательна историко-политическая риторика президента Ильхама Алиева, в частности заявление о «вхождении Азербайджана в состав СССР как акте оккупации». Подобные формулировки трактуются как ревизия не только советского, но и общего антифашистского наследия, а также как попытка переосмыслить роль азербайджанцев в структуре советской военной и послевоенной модернизации.
На этом фоне усиливаются связи Азербайджана с США, Турцией и Израилем. Решение Вашингтона о размораживании оборонного сотрудничества, активизация логистических проектов в обход территории России и Ирана, а также выстраивание системной риторики о «тюркском мире без посредников» трактуются как признаки перехода к параллельной геополитической архитектуре в регионе. Примечательно, что в условиях этого дрейфа и Азербайджану, и Армении было отказано в членстве в ШОС. Формальной причиной стали возражения Индии и Пакистана, однако неформальные дебаты указывали на недоверие со стороны Москвы и Пекина.
Дополнительным элементом напряжения стала серия публикаций, в которых утверждается, что часть казахстанского аппарата, связанного с бизнес-интересами в Баку и Анкаре, может участвовать в мягком лоббизме, направленном против интересов российских компаний и безопасности на Южном Урале и Северном Кавказе. Параллельно в России и Казахстане начались локальные проверки в отношении азербайджанских диаспор, особенно в логистических, строительных и энергетических секторах. Источники, близкие к силовым структурам, указывают, что «речь идет не о ксенофобии, а о вопросах безопасности».
Таким образом, складывается сценарий, в котором Азербайджан все чаще рассматривается не как союзник, а как переменная в стратегическом уравнении Запада на Южном Кавказе. Даже если подобные оценки преувеличены или основаны на ошибочных данных, они сами по себе создают новую реальность — на уровне дипломатии, спецслужб и восприятия. В этих условиях ключевым становится не только контроль над территорией, но и контроль над нарративами, особенно в условиях фрагментарной и многоуровневой войны нового типа.
С академической точки зрения, подобные процессы требуют всестороннего анализа с привлечением эмпирических данных, дипломатических документов, архивных переписок и сопоставления источников из разных государств. Только такая работа позволит отличить реальные угрозы от медийных фантомов и тем самым минимизировать риски стратегических просчетов в регионе.
Фото из открытых источников